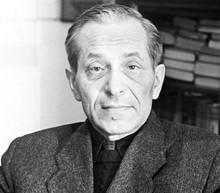Общественный конфликт в рассказах Зощенко М.М.
Общественный конфликт в рассказах Зощенко М.М.
В рассказах Зощенко запечатлен величайший исторический слом, который произошел в нашей стране и отразился на всех сторонах жизни россиян. Но писатель силен не там, где он пишет конкретно-исторические повести, такие, как «Возмездие» или «Керенский». Подлинно художественная глубина и сила прозрения проявляются в его небольших рассказах. За незначащими событиями, мелкими, можно сказать, происшествиями вдруг открываются черты глобальных потрясений, изменивших не только общество в целом, но и каждого человека, его составляющего.
Ленин заявлял, что октябрьский переворот утвердит окончательный политический крах нации Пуришкевичей и Гучковых и полное торжество нации Чернышевского и Плеханова. Но вскоре оказалось, что октябрьский переворот ознаменовал начало полного исчезновения старой великорусской нации Белинских, Милютиных, Корниловых, Бехтеревых и пробуждение к самостоятельному историческому существованию новой национальной формации. Именно этот культурно-исторический процесс и запечатлел в своих произведениях Михаил Михайлович Зощенко. В рассказе «Столичная штучка» повествуется, как в селе Усачи происходят перевыборы председателя. Речь Ведерникова, «тут же, по доброй своей охоте», разъясняет крестьянам мужик Бобров, представитель деревенской бедноты. Этот комический диалог городского человека с деревенскими не был открытием для русской литературы. Подобное можно найти еще в рассказе Чехова «Новая дача», у Бунина... И все же подобие — это не тождество. У Чехова, у Бунина разговор происходит на чистейшем русском языке. И однако же для того, чтобы смысл слов городского человека был понятен деревенскому, необходим толмач, переводчик. В рассказе Зощенко диалог происходит на языке, который чисто русским уже не назовешь. Казалось бы, жаргон, на котором изъясняется зощенковский «городской товарищ» («ячейка», «подшефное село», «международное положение», «к текущему моменту дня», «предлагается выставить кандидатуру лиц»), должен вызвать настоятельную потребность в переводчике. И хотя такой переводчик действительно появляется, комизм положения как раз в том и состоит, что толмач-доброхот совершенно не нужен. Крестьяне превосходно понимают все, что им говорит «городской товарищ». Переводчику остается лишь повторять сказанное, он лишь слегка видоизменяет те нелепые словесные конструкции, которые преподносит толпе оратор. Присутствие самозваного перелагателя лишь подчеркивает то обстоятельство, что «городской товарищ» и «деревенская беднота» говорят на одном языке. Язык этот для общества нов: он вбирает в себя некоторые элементы речи русской интеллигенции, находящиеся в смешении с простонародной, не всегда внятной по смыслу. В прежней, допереворотной России у каждого социального слоя были и свои языковые каноны, пожалуй, даже еще более устойчивые и нерушимые, чем бытовые. Военные, интеллигенты, люди светские, духовенство, рабочие, крестьяне — представители каждой из этих социальных групп, как знаем из филологических исследований и, разумеется, художественной литературы, говорили на своем, только им присущем наречии. После октябрьского переворота взамен всех этих изолированных, замкнутых социальных пластов образовалась сплошная, более или менее однородная масса. То, что нередко называют «языком Зощенко», и есть язык этой самой сплошной, однородной массы. Среди героев Зощенко находим и крестьян, и рабочих, и интеллигенцию, представителей самых разных социальных групп и слоев. Но разговаривают они все — совершенно одинаково. Мы можем заметить, что на одном и том же языке объясняются у Зощенко друг с другом даже те его персонажи, которые являются своего рода социальными антагонистами. И даже в тех именно случаях, когда этот социальный антагонизм вырастает в конфликт, образующий саму сюжетную основу рассказа. Когда в «Аристократке» управдом говорит свое знаменитое: «Ложи взад!», это не вызывает удивления. Однако и дама-«аристократка» отвечает ему совершенно в том же духе: «Довольно свинство с вашей стороны...» И на этом же самом едином языке пререкаются и переругиваются друг с другом социально ущемленный театральный монтер из одноименного рассказа — и «привыкший завсегда сыматься в центре» главный оперный тенор. Монтер в запале орет: «Пущай!» — и тенор орет: «Пущай!» И тем же немыслимым «зощенковским» языком комментирует их перебранку сам автор. Здесь, конечно, нельзя не проверить предположение, что этот «зощенковский» язык — вовсе и не язык зощенковских героев, а язык единственного его героя, героя-рассказчика, адаптировавшего и унифицировавшего пеструю и разноликую речь, речь самых разных его персонажей. Однако родство разных зощенковских героев определяется не только однотипностью их речи. Не менее однотипны все их реакции, все их интересы, все их культурные навыки, все их взаимоотношения с миром. Маляры, монтеры, врачи, поэты, теноры, «чистые пролетарии» и «нечистые интеллигенты» — все они, все до единого,— представители одной и той же, весьма однородной социальной и культурной среды. Они рядом — Гусев, больше месяца использовавший неизвестный немецкий порошок вместо пудры, «вузовцы и разная интеллигенция» из того же рассказа «Качество продукции», также не разобравшие, в чем дело, и даже поэт, ставший заложником заграничного туалета («Западня»)... Идея «нового человека», «новых людей» была заявлена в русской литературе еще произведением Чернышевского «Что делать?». Потом попытки вывести таких персонажей предпринимал М. Горький, другие литераторы, видевшие в словесности лишь наставление с примерами для подражания, предназначенными неразумному населению. Итоги были смехотворны. Так, Чернышевский, попытавшись прагматически использовать христианскую символику, невольно написал роман о лжепророках и лжехристах... Но после того как в огне октябрьского переворота начала рушиться русская церковь, литературе ничего не оставалось, как уже сознательно становиться суррогатом церковной словесности (новой религией, естественно, был выставлен большевизм). Зощенко как писатель огромного дара и художнической интуиции в этом сотворении гомункулов участвовать не пожелал. Внешне скромно, без особых деклараций он стал показывать реальные результаты создания этого самого, чаемого «нового человека». И вскоре все почувствовали: родился монстр. Монстр, самым своим языком выразивший процесс уничтожения веками выстраивавшейся системы интеллектуального воспроизводства нации. Монстр, уже самим своим языком ввергавший в ужас непостижимости. Все почувствовали: родился монстр, хотя, может быть, не все могли себе в этом признаться. Поэтому взялись за трепку Зощенко. 🔍 смотри также:
Понравился материал?
Рассказать друзьям:
Просмотров: 5270
| | ||||